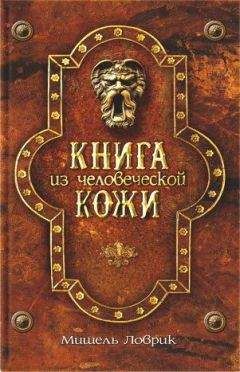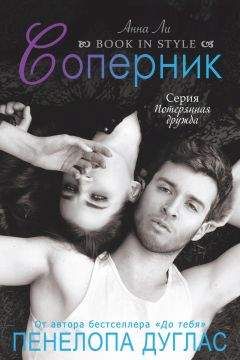Мишель Ловрик - Книга из человеческой кожи [HL]
Что такое? Читатель вопросительно изгибает бровь? Он хочет знать: то ли моя мать настолько тупа, то ли наивна до абсурда? Да, пожалуй, и то, и другое будет верно. Хотя в данном случае она просто не желала ничего знать, как мне представляется. В конце концов, она ведь не испытывала недостатка в мужьях.
Cicisbeo[48] моей матери, Пьеро Зен, каждый вечер ужинал за нашим столом. Ежедневно он присылал ей обязательный букет цветов, в лепестках которых торчал листок с очередным слащавым сонетом. Он преуспел в исполнении своего долга, который заключался в том, чтобы держать для матери зеркало, в котором остальные читали: «Любуйтесь моей прекрасной госпожой, восхитительным объектом моей страсти».
Впрочем, cicisbeo скорее выполнял декоративные обязанности, совсем как его цветы. В отсутствие отца главой семьи становился я. Но и мои обязанности были минимальными. Я делал то, что положено делать любому благородному молодому человеку в Венеции. Я досаждал клеркам отца, работающим на самом верхнем этаже Палаццо Эспаньол. Я понемногу крал у них деньги. Теперь уже никто не осмеливался навязать мне опекуна. Я ходил туда, куда мне заблагорассудится, и делал, что хотел. Я приставал к посетительницам у Флориана, пока владелец кафе не предложил мне заниматься своим делом, если можно так выразиться, в другом месте. Тогда я повадился ездить на гондоле в бордель на Каннареджио, где проститутки за деньги позволяли мне забавляться с ними. Я воспитывал свою младшую сестру, стоило ей попасться мне на глаза.
Я ждал, пока отец вернется домой, чтобы раз и навсегда решить вопрос с его завещанием. Между нами назревал скандал. До того, как я обнаружил завещание, мне приходилось сносить лишь его отчужденное презрение. Действительно, мне не слишком нравилось смотреть, как другие мужчины обращались со своими сыновьями, обнимая их и глядя на них с гордостью во взоре, когда они приводили их к нам домой. Но при этом я не питал какой-то особой неприязни к своему отцу.
Регулярный осмотр потайного места показывал, что все эти годы завещание пролежало без изменений: отец позволил пустяковому вопросу перерасти в серьезную проблему. Каждый час его пребывания в Арекипе — «Да, останься!» — и даже рискованное путешествие обратно подвергали опасности мои планы и надежды. Постепенно по отношению к отцу у меня начала вырабатываться ядовитая резкость, медленно перераставшая в деятельную ненависть.
Тем временем во мне проснулся некоторый интерес к моде. Его, конечно, можно было счесть зеркальным отражением страсти моей матери, но, разумеется, я занялся этим вопросом намного глубже и основательнее, нежели она. Утонченный читатель уже наверняка отметил, что не зря же мы, люди, являемся единственными созданиями, которых не удовлетворяют аккуратные облегающие одежды, в которых мы рождаемся на свет. Я же был удовлетворен еще меньше прочих. Так что вскоре публика заговорила о моих нарядах тем тоном, который обычно приберегают для стихийных бедствий или деяний Божьих. Не всем нравились мои галстуки, шейные платки, сюртуки и жилеты. Но я привлек и заслужил внимание людей, которые в противном случае обошлись бы со мной пренебрежительно или бежали бы от меня, как черт от ладана.
Я придумал еще несколько способов для наращивания своего основного капитала. Я заставлял людей ждать себя. Мне требовалось чрезвычайно много времени, чтобы надеть плащ, направляясь на встречу, пока слуги стояли навытяжку в ожидании. Я всегда последним поднимался в гондолу, высматривая в окно признаки нетерпения и ропот едва сдерживаемого презрения, прежде чем явиться на публике. А потом я спускался с королевской неспешностью, упиваясь их ненавистью.
Сестра Лорета
Несмотря на то что сестра София присоединила свой нежный голосок к моим молитвам, наш Небесный Отец не спешил удовлетворить мое величайшее желание и оборвать мое земное бытие. Я начала верить в то, что священники, руководившие монастырем Святой Каталины, тоже были моими врагами. Стоило мне сообщить им об очередном проступке какой-нибудь из моих легковесных сестер, как они благодарили меня, недвусмысленно намекая на мое скорое возвышение, но на очередных выборах неизменно повергали с небес на землю, не позволяя мне стать членом Совета монахинь.
Меня призвали на беседу с капелланом, который то и дело утирал лоб, разглагольствуя:
— Сестра Лорета, вам следует умерить свой пыл в истязании плоти. Вам, должно быть, известно, что дьявол способен вселиться в бичевание, доставляя тем самым извращенное наслаждение. И в этом случае умерщвление плоти превращается в непристойность. Что не к лицу служительнице Божьей, вы не находите?
Я обратила глухое ухо к его словам и вернулась в свою келью, где меня поджидала сестра София.
Временами мне казалось, что я бы не смогла жить, не видя сестру Софию рядом. Я беспокоилась о ней денно и нощно, поскольку у нее был слабый желудок и она часто оказывалась в лазарете. После случая с язвами мне запретили приближаться к монастырской лечебнице. Вместо этого, подобно Лидвине Шедамской, я взяла за правило становиться как можно ближе к кому-либо, кто страдал от головной либо зубной боли, тем самым стараясь разделить и облегчить их страдания. Я проделывала это в церкви, чтобы они не могли отодвинуться от меня подальше.
В такие дни, пребывая в вынужденной разлуке с сестрой Софией, я терзалась одиночеством, которое заставляло меня долгими часами лежать на холодном каменном полу церкви. Только в сестре Софии я нашла те смирение, любовь и нежность, которыми всегда хотела окружить себя.
Тем не менее порочные и легкомысленные монахини Святой Каталины не желали оставить нас в покое, предоставить нам наслаждаться обоюдной симпатией. Некоторые из них свистели, подобно мужчинам в таверне, когда видели, как мы с сестрой Софией идем рядом по улице Калле Севилья. Они подсовывали под дверь моей комнатки маленькие рисунки, на которых мы с сестрой Софией, обнаженные, обнимались в непристойных позах. На других высмеивалась моя вновь обретенная физическая сила: я легко поднимала одной рукой хрупкую сестру Софию.
Так злобные умы и души стремятся опорочить даже прекрасные проявления чистой любви.
Джанни дель Бокколе
Дом, лишившийся настоящего хозяина, умирает. В Палаццо Эспаньол нас ждала та же участь, причем к смерти мы приближались не медленно и постепенно, а с пугающей скоростью. Мингуилло не мог и с собой-то управиться, не говоря уже о ком-нибудь еще. Помнится, такие мысли приходили мне на ум в те дни. Мингуилло, он был хитрый, но подлый и глупый, вот что я вам скажу.
А теперь я прервусь ненадолго, чтобы перекреститься, потому что вспоминаю его лицо.
Вот не сойти мне с этого места, но он внешне стал походить на настоящего полоумного. Руки и ноги у него вращались, как на шарнирах. Сущая гиена, прости, Господи. Гнойные прыщи множились, не оставив чистого клочка кожи у него на лице. Он зачесывал назад свои жирные волосы, и они блестели, прилипая к голове, как у крысы, вылезшей из помойной канавы. По крайней мере мне всегда приходила на ум крыса, когда я смотрел на рисунки Марчеллы, на которых мокрая крыса сидела на голове безволосой собаки, изображенной сзади. Но это было не смешно, честно. Он вселял в нас не то что страх, а ужас. Глаза его, не мигая, вечно смотрели в одну точку. И еще из них исчез цвет. Они стали какими-то бледно-голубыми и мутными, как свернувшееся молоко. Стоило ему уставиться этими своими буркалами на кого-нибудь, и беднягу тут же начинала колотить дрожь. Свинья Господня!
А о его тряпках судачили во всех тавернах. Он носил камчатные и шелковые сюртуки таких расцветок, которые совсем не любили друг друга, а уж шляпы таскал такие, что они походили на задушенных котов, свисающих с одной стороны его прыщавой головы.
Будучи у всех на виду, он обзавелся и соответствующей репутацией. Он путался с венецианскими продажными женщинами, предаваясь пьянству и разврату. Если где-то устраивали петушиные бои, или вешали бродячих собак, или дрались проститутки — можно было не сомневаться, что Мингуилло находился в первых рядах зрителей, поставив деньги на самого гнусного участника. А если кому-то изрядно доставалось в ходе драчки, он удалялся с самодовольной улыбкой на губах, как дохлый лис, заявляя свое обычное: «Я тут ни при чем».
Нам было намного спокойнее, когда он убирался прочь по своим грязным делишкам. Потому как, оставаясь дома, он специально вмешивался в налаженную работу слуг, так что каждый из них стоял на ушах, а хозяйство приходило в запустение. Повара он заставлял мыть мусорные ведра. Садовника насильно обряжал в тесную ливрею и в ней уже заставлял выкапывать кусты роз. Ни с того ни с сего нас могли выдернуть на построение в piano nobile,[49] где он раздавал нам пинки и затрещины, оскорбляя почем зря, так что нам было стыдно смотреть друг другу в глаза.